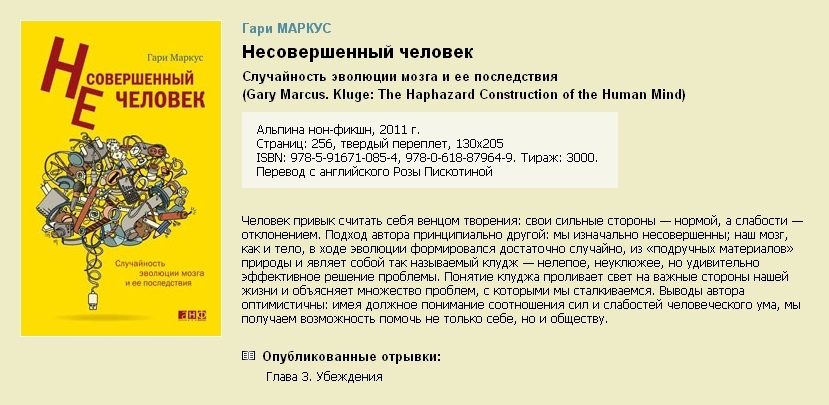Глава 3. Убеждения
Алиса засмеялась. «Нет смысла и пытаться,— сказала она,— нельзя верить в небылицы». «Я полагаю, у тебя не слишком много опыта,— сказала Королева. — Когда я была моложе, я имела обыкновение делать это по полчаса в день. Да что там говорить, иногда я успевала поверить не менее чем в шесть небылиц еще до завтрака».
Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес»
«Вы нуждаетесь в том, чтобы люди любили вас, восхищались вами, но сами склонны критиковать себя. Хотя у вас есть некоторые слабости, обычно вы умеете справляться с ними. У вас есть значительные способности, которые вы недостаточно используете в своих интересах. С виду вы организованны и сдержанны, но в глубине души беспокойны и тревожны».
Интересно, поверили бы вы мне, если бы я сказал, что написал это специально для вас? На самом деле это компиляция гороскопов, составленная психологом Бертрамом Форером . Идея Форера состояла в том, что, читая обтекаемые фразы, которые могут относиться к кому угодно, мы склонны считать, что они написаны именно о нас — даже если это отнюдь не так. Хуже всего то, что мы еще более склонны попадать в такую ловушку, если подобные утешительные описания включают несколько положительных черт. Телепроповедники и рекламные ролики завлекают нас одним и тем же приемом, изо всех сил пытаясь создать впечатление, что они обращаются к конкретному зрителю, а не к толпе. Как представители биологического вида мы только и ждем, чтобы нас одурачили. В этой главе мы разберемся, почему это так.
Способность придерживаться ясных убеждений, которые мы можем обсуждать, оценивать, осмысливать, как и язык, — недавние достижения эволюции — они характерны для людей и редки или отсутствуют у других биологических видов1. А то, что существует недавно, редко бывает отлажено как следует. В отличие от объективного механизма обнаружения и кодирования слова «правда» по букве «П», наша человеческая способность к суждениям бессистемна, она складывалась в ходе эволюции и зависит от эмоций, настроений, желаний, целей и просто личных интересов и поразительно чувствительна к индивидуальным особенностям памяти. Более того, эволюция оставила нас невероятно легковерными, а это свидетельствует скорее о несовершенстве проекта, чем о его достоинствах. В общем, хотя в основе нашей способности судить о чем-то лежат мощные системы, в то же время мы подвластны предрассудкам, манипулированию и введению в заблуждение. Это не так просто: наши убеждения и несовершенные инструменты нервной системы, с помощью которых мы оцениваем их, могут приводить к семейным конфликтам, религиозным спорам и даже к войнам.
В принципе целесообразно, чтобы в условиях действующей системы представлений было ясное понимание истоков этих представлений и того, насколько они соответствуют реальности. Связано ли мое мнение, что Colgate — хороший бренд: 1) с моим анализом двойного слепого теста, проведенного и опубликованного Consumer Reports, 2) с тем, что мне нравится реклама Colgate, или 3) с моим собственным сравнением Colgate с другими «ведущими брендами»? Хотелось бы иметь ответ на этот вопрос, но у меня его нет.
Поскольку эволюция строила способность делать суждения преимущественно из наличных компонентов, предназначенных изначально для других целей, мы часто не можем восстановить в памяти истоки тех или иных представлений — если вообще знали их — и, что еще хуже, часто мы совершенно не догадываемся о том, насколько на нас влияет не относящаяся к вопросу информация.
Возьмем, например, тот факт, что студенты выше оценивают уровень преподавания профессоров, если те привлекательны внешне. Если человек вызывает у нас положительные эмоции по одной причине, мы склонны автоматически приписывать ему и другие хорошие качества, это явление в психологии называется эффектом ореола. Справедливо и обратное: видишь одну отрицательную черту и уже ждешь от человека только негатива. Было, например, такое неутешительное исследование, в котором людям показывали изображения одного из двух детей, первый — симпатичный, а второй — так себе. После этого испытуемым говорили, что один из них, назовем его Джуниор, бросил в другого мальчика снежок, внутри которого был камень; а после этого просили объяснить поведение мальчика. Люди, которые видели несимпатичного мальчика, записывали Джуниора в головорезы, которого следует отправить в исправительную школу; те, кому показывали более симпатичного мальчика, делали более мягкие выводы, предполагая, например, что просто у Джуниора был «неудачный день». Одно за другим исследования показывали, что привлекательные люди лучше проходили собеседования при приеме на работу, учебу и т. д. Все это показывает, как эстетика создает помехи в каналах формирования представлений.
Точно так же мы часто голосуем за кандидатов, которые (физически) «выглядят более компетентными» в сравнении с остальными. И, как прекрасно знают рекламисты, все мы охотнее покупаем пиво определенной марки, если видим, как его пьет симпатичная особа, и с большей вероятностью купим кроссовки, если видим, что их носит успешный спортсмен Майкл Джордан. И хотя, может быть, иррационально для многих подростков покупать одни и те же кроссовки, чтобы «быть, как Майкл Джордан», зато для компании Nike вполне рационально тратить миллионы долларов на покровительство со стороны Его Воздушества. Особенно шокирует недавнее исследование, где дети трех-пяти лет оценивали продукты — морковь, молоко, яблочный сок — выше, если они были в упаковке от Макдоналда. Книги и обложки, морковь и пластиковая упаковка. Мы рождены, чтобы нас водили за нос.
Эффект ореола (и его дьявольская противоположность) в действительности всего лишь частный случай более общего явления: почти все, что попадает в орбиту нашего сознания, даже случайное слово, может повлиять на то, как мы воспринимаем мир и во что верим. Что произойдет, например, если я попрошу вас запомнить такой набор слов: мебель, самоуверенный, угол, авантюрный, стул, стол, независимый, телевизор. (Удалось? Дальнейшее будет еще забавнее, если вы действительно попытаетесь запомнить этот список.)
Теперь прочитайте следующий отрывок о человеке по имени Дональд:
Дональд проводил огромное количество времени в поисках того, что его могло бы взволновать. Он покорил вершину Мак-Кинли, сплавлялся по Колорадо на каяке, участвовал в гонках на выживание, управлял реактивным судном, не слишком много зная о кораблях. Множество раз он мог быть ранен или даже погибнуть. Теперь он находится в поисках нового приключения. Он подумывает: то ли заняться затяжными прыжками с парашютом, то ли пересечь на паруснике Атлантику.
Чтобы проверить, как вы поняли текст, я попрошу вас охарактеризовать Дональда одним словом. И слово, которое придет вам в голову, это... (см. сноску)2. Если бы вы запоминали немного другой список, например: мебель, самодовольный, угол, безрассудный, стул, стол, равнодушный, телевизор, то первое слово, которое пришло бы вам в голову, могло быть другим — не авантюрный, а безрассудный. Дональд может быть с равным успехом и безрассудным, и авантюрным, но коннотация у каждого слова своя, и люди выбирают ту характеристику, которая уже отложилась у них в голове (в данном случае она хитроумно имплантирована списком, который они запоминали). Это говорит о том, что на ваше впечатление о Дональде повлияла информация (слова в списке для запоминания), вроде бы и не относившаяся к делу.
Другой феномен, называемый «иллюзией фокусирования », показывает, насколько легко манипулировать людьми, всего лишь переключая их внимание с одной информации на другую. В одном простом, но красноречивом исследовании студентов колледжа попросили ответить на два вопроса: «Насколько вы довольны своей жизнью в целом?» и «Сколько свиданий у вас было в последний месяц?». Одна группа студентов слушала вопросы именно в этой последовательности, а другая — в обратной. В группе, прослушавшей сначала вопрос об удовлетворенности жизнью, корреляции между ответами почти не наблюдалось; некоторые люди с меньшим числом свиданий сообщали, что счастливы, некоторые люди с большим количеством свиданий сообщали, что грустят. Однако достаточно было поменять вопросы местами, как студенты начинали фокусироваться исключительно на любви и неожиданно оказывались неспособными воспринимать счастье в отрыве от интимной жизни. Те, у кого было много свиданий, считали себя довольными жизнью, а те, у кого мало, — напротив. Вот так. Когда вопрос о свиданиях шел первым, оценки опрошенных четко зависели от числа свиданий, которое у них было. Возможно, это не удивляет вас, а могло бы, так как это показывает, насколько податливы наши убеждения. Даже наше внутреннее восприятие самих себя зависит от того, на чем мы сфокусированы в данный момент.
Резюме: всякое убеждение пропускается через непредсказуемый фильтр контекстуальной памяти. Либо мы вспоминаем представление, сложившееся у нас прежде, либо выводим его из тех воспоминаний, которые всплыли в нашем мозгу.
Тем не менее мало кто понимает, до какой степени наше представление о чем-то может исказиться под влиянием капризов памяти. Возьмем студентов, которые слышали первым вопрос о свиданиях. Предполагается, что, отвечая на вопрос о счастье, они были настолько объективны, насколько могли; только студент, очень хорошо знающий себя, мог сообразить, что ответ на второй вопрос может быть связан с ответом на первый вопрос. Именно это и делает ментальную контаминацию столь коварной. Наше субъективное впечатление, что мы объективны, редко соответствует реальности: неважно, насколько мы пытаемся быть объективными, человеческие представления, опосредованные памятью, неизбежно колеблются под влиянием мелочей, которые мы лишь смутно осознаем.
С инженерной точки зрения люди могли бы быть куда лучше сконструированы, если бы эволюция снабдила нашу контекстуальную память механизмом систематического поиска запасов воспоминаний. Данные опроса более точны, если он проводится на репрезентативном срезе населения, точно так же человеческие убеждения более весомы, если они основаны на взвешенном наборе данных. Увы, эволюция не догадывалась о статистических понятиях объективности примера.
Вместо этого обычно мы считаем более важными либо самые последние воспоминания, либо те, что быстрее приходят на ум. Рассмотрим, например, мой недавний опыт, когда я ехал по загородному шоссе и думал, в какое время окажусь в следующем мотеле. Когда дорога была свободной, я думал: «Ага, я еду по федеральной трассе со скоростью 150 км/час, я буду там через час». Когда из-за дорожных работ я двигался медленнее, я думал: «Нет, я доберусь до места часа через два». Забавно, что я не рассуждал, исходя из средних значений: «Дорожная ситуация то хуже, то лучше, по-видимому, так будет и дальше, следовательно, можно поручиться, что дорога займет полтора часа».
Самые обыденные, но чрезвычайно распространенные трения в отношениях людей по всему миру связаны с тем же самым неумением соотнести наши представления с реальностью. Когда мы пререкаемся с супругой или соседом по комнате по поводу того, чья очередь мыть посуду, нам, вероятно (хотя мы и не отдаем себе отчета), легче вспоминаются те случаи, когда мы сами заботились о них (а не когда они делали что-то для нас); в конце концов, наша память организована так, что фокусируется преимущественно на собственном опыте. Мы редко корректируем этот дисбаланс и постепенно приходим к убеждению, что делаем больше работы в целом, и в конечном итоге упиваемся чувством собственной правоты. Исследования показывают, что практически в любом коллективном предприятии, от содержания дома до написания академических трудов совместно с коллегами, сумма воспринимаемых каждым участником собственных вкладов превышает общий результат выполненной работы. Мы не можем помнить то, что делают другие люди, так же хорошо, как помним то, что сделали сами, — в итоге все (даже те, кто уклоняется от работы!) остаются с ощущением, что другие проехались за их счет. Понимание ограниченности нашей собственной выборки данных может всех нас сделать более великодушными.
Ментальная контаминация так сильна, что даже совершенно не имеющая отношения к делу информация может «водить нас за нос». В одном пионерском эксперименте психологи Амос Тверски и Даниэль Канеман крутили колесо фортуны с отметками от 1 до 100, а затем задавали испытуемым вопрос, никак не соотносящийся с результатом поворота колеса: какой процент африканских стран входит в состав ООН? Большинство участников не знали точного ответа, поэтому пытались догадаться. Но на их оценки в значительной степени влияли цифры на колесе. Когда колесо показывало 10, типичный ответ на вопрос был 25%, в то время как когда колесо останавливалось на 65, то типичный ответ был 45%.
Это явление, известное как эффект «якоря и корректировки», возникает снова и снова. Убедитесь сами. Прибавьте 400 к последним трем цифрам вашего мобильного телефона. Сделав это, ответьте на вопрос: в каком году завершился поход Аттилы, вождя гуннов, на Европу? Люди, чей телефонный номер плюс 400 давал менее 600, называли в среднем 629 г. н. э., в то время как люди, чей номер телефона плюс 400 давал от 1200 до 1399, называли 979 г. н. э., на 350 лет позже3.
Что же такое происходит? Каким образом телефонный номер или оборот колеса фортуны может повлиять на представления об исторических событиях или составе ООН? В процессе привязки и корректировки люди начинают с какого-то произвольного пункта и двигаются, пока не найдут ответ, который их устраивает. Если на колесе выскакивает номер 10, они начинают спрашивать себя, возможно, бессознательно: «Правдоподобно ли число 10 для ответа об ООН?» Если нет, они продолжают, пока не найдут другое значение (скажем 25), которое кажется верным. Если выпадет 65, они могут двинуться в противоположном направлении: «Подходит ли для ответа 65? Или 55?» Беда в том, что привязка к случайному пункту может наводить нас на ответы, которые едва ли правдоподобны: низкий старт приводит к более низким из возможных вариантов ответа, а начав с высоких значений, люди доходят до наиболее высоких из правдоподобных чисел. Никакая стратегия не ведет людей к, казалось бы, самому разумному ответу — к тому, что находится в середине шкалы возможных ответов. Если вы думаете, что правильный ответ где-то между 25 и 45, зачем говорить 25 или 45? Может быть, лучше назвать число 35, но из-за якорного эффекта люди редко так поступают4.
Эффекту якоря уделяется большое внимание в психологической литературе, но это ни в коем случае не единственная иллюстрация того, как на убеждения и суждения могут влиять попутная и даже не имеющая отношения к делу информация. Возьмем другой пример. Люди, которых просили осторожно подержать между зубами ручку, не касаясь ее губами, оценивали карикатуры как более забавные, чем те, кто держал ручку со сжатыми губами. Почему так? Вы можете догадаться, если попробуете следовать этим инструкциям, глядя на себя в зеркало. Держите ручку между зубами «осторожно, не касаясь ее губами». Теперь посмотрите, какую форму принимает ваш рот. Вы увидите, что уголки губ подняты, как при улыбке. Так поднятые уголки губ благодаря механизму действия контекстуально зависимой памяти автоматически вызывают приятные мысли.
В аналогичной серии экспериментов испытуемых просили, используя недоминантную руку (левую для правшей), с максимально возможной скоростью написать имена знаменитостей, классифицируя их по категориям (нравится, не нравится, нейтральное отношение). Они должны были делать это: 1) либо нажимая на стол (сверху вниз) ладонью доминантной руки, 2) либо нажимая (снизу вверх) ладонью доминантной руки на обратную сторону столешницы. Люди, чья ладонь была обращена вверх, перечисляли больше имен положительных персонажей, а люди, чья ладонь была обращена вниз, вспомнили больше негативных. Почему? Сама поза человека с раскрытой ладонью подразумевает позитивный подход, в то как время ладонь, обращенная вниз, соответствует позе осторожности. Как показывают данные, такие легкие различия изо дня в день влияют на нашу память и в конечном счете на наши убеждения.
Другой источник контаминации связан со стереотипностью мышления, с человеческой склонностью считать хорошим то, что хорошо знакомо. Возьмем, например, любопытное явление, известное как эффект «простого знакомства »: если вы просите людей оценить вещи как китайские иероглифы, они склонны предпочесть те, что видели раньше, тем, которых не видели. Один мой коллега даже высказал крамольную мысль, что известные произведения живописи могут нравиться людям потому, что они знают их, наряду с тем, что они прекрасны.
С точки зрения наших предков, предпочтение знакомого могло иметь смысл; то, что знала еще прапрапрабабушка, и это не убило ее, вероятно, надежнее того, чего она не знала — и что могло ее убить. Предпочтение того, что испытано на практике, могло формироваться в ходе приспособления: те, кто выбирал все хорошо знакомое, могли иметь большее потомство, чем индивиды с чрезмерной предрасположенностью к новизне. Подобно этому наше стремление есть вкусную пищу, предположительно наиболее знакомую нам, вероятно, сильнее проявлялось в тяжелые времена; так что и здесь легко найти объяснение, связанное с приспособляемостью.
В отношении эстетики нет ничего плохого в предпочтении привычного — на самом деле не имеет значения, нравится мне этот китайский иероглиф или другой. Точно так же, если моя любовь к музыке диско 1970-х годов обязана скорее тому, что я знаю ее, а не музыкальному таланту Донны Саммер, ради бога.
Но наша приверженность знакомому может стать и проблемой, особенно когда мы не осознаем, до какой степени этот фактор влияет на наше предположительно рациональное принятие решений. На самом деле последствия могут быть значительными. Например, люди склонны предпочитать ту социальную политику, которая уже осуществляется, той, которая не проводится, даже если нет обоснованных данных, показывающих, что текущая политика эффективна. Вместо того чтобы анализировать преимущества и недостатки, люди часто используют принцип здравого смысла: «Раз это существует, значит, должно работать».
В одном недавнем исследовании высказано предположение, что люди поступают так, даже если понятия не имеют, какая политика на самом деле проводится. Группа израильских исследователей решила воспользоваться тем, что люди мало знают о многих указах и постановлениях. Настолько мало, что экспериментаторы легко заставили опрашиваемых поверить в любые предположения; так, исследователи проверили, насколько люди готовы принять на веру любую «правду», к которой их подводят. Например, их попросили оценить порядки, такие, например, как кормление бездомных кошек: хорошо это или неправомерно. Половине испытуемых экспериментатор объяснил, что кормление уличных кошек в настоящее время узаконено, а другой половине — что нет, а потом спрашивал людей, надо ли менять законодательство. Большинство благосклонно относились к существующей практике и готовы были найти множество доводов в пользу ее преимуществ над конкурирующей политикой. Похожие результаты исследователи обнаружили и в эксперименте с выдуманными правилами обучения декоративно-прикладному искусству. (Сколько часов обучения должна подразумевать эта программа — пять или семь? В настоящее время X.) Такая же приверженность знакомому характерна и для реальной жизни, когда ставки выше. Это объясняет, почему кандидаты, занимающие выборные должности на момент очередных выборов, всегда имеют преимущества. Известно, что даже недавно скончавшиеся публичные политики побеждали живых соперников5.
Чем больше угроз нас подстерегает, тем более мы склонны цепляться за то, что нам знакомо. Подумайте о тенденции питаться привычными продуктами. При прочих равных условиях в случае опасности люди склонны больше, чем обычно, держаться за своих близких, за свои корни, за свои ценности. Лабораторные исследования, например, показали: если людям поставить задачу вообразить собственную смерть («Напишите как можно подробнее, что, как вы думаете, может происходить с вами в случае вашей физической смерти...»), то они склонны более тепло, чем обычно, относиться к представителям своих религиозных и этнических групп, но более негативно к аутсайдерам. Страх смерти побуждает также поляризовать политические и религиозные убеждения: у патриотичных американцев, осознававших свою смертность, идея использовать американский флаг в качестве сита вызывает больший ужас (в сравнении с патриотами контрольной группы); убежденные христиане, которых просят поразмышлять на темы собственной смерти, проявляют меньшую терпимость, если кто-то пользуется распятием в качестве молотка. (Благотворители, обратите внимание: наши кошельки мы тоже открываем охотнее в тот момент, когда нам случается задуматься о смерти.) Другое исследование показало, что во времена кризисов все люди склонны становиться более нетерпимыми к национальным меньшинствам; как ни странно, это относится не только к представителям большинства, но и к самим меньшинствам.
Люди могут даже приветствовать или по крайней мере принимать системы правления, которые серьезно угрожают их собственным интересам. Как отмечал психолог Джон Джост: «Многие люди, которые жили во времена феодализма, крестовых походов, рабства, апартеида и Талибана, считали, что существующая система несовершенна, но морально оправданна и [в чем-то даже] лучше, чем альтернативы, которые они могут себе представить». Иначе говоря, ментальная контаминация — дело серьезное.
Каждый из этих примеров ментальной контаминации (иллюзия фокусирования, эффект ореола, эффект якоря и корректировки, эффект простого знакомства) подчеркивает важное различие, к которому мы будем постоянно возвращаться в этой книге. Наше мышление условно можно разделить на два потока: один — быстрый, автоматический, преимущественно бессознательный; а другой — медленный, целенаправленный, сознательный.
Первый поток, который я буду называть наследственной, атавистической или рефлексивной системой, действует стремительно, автоматически, при наличии или при отсутствии сознательной осведомленности. Второй поток я называю рассуждающей системой, поскольку она делает следующее: размышляет, рассматривает, обдумывает факты — и пытается (иногда успешно, иногда нет) спорить с ними.
Рефлексивная система, безусловно, старше и обнаруживается в той или иной форме практически во всех многоклеточных организмах. Она лежит в основе многих наших повседневных действий, например, мы автоматически ставим ногу выше или ниже в соответствии с рельефом местности, по которой идем, или мгновенно узнаем старого друга. Рассуждающая система, которая сознательно рассматривает логику наших целей и решений, гораздо новее, и обнаруживается у немногих видов, возможно, только у людей.
В лучшем случае мы можем сказать, что эти две системы опираются на достаточно разные мозговые субстраты. Некоторые рефлексивные системы зависят от старых с точки зрения эволюции систем мозга, таких как мозжечок, подкорковые нейронные узлы (связанные с контролем моторики) и миндалины (отвечающие за эмоции). Рассуждающая система между тем базируется, вероятно, преимущественно в переднем мозге, в предлобной части коры головного мозга, которая есть — хотя и намного меньше — и у других млекопитающих.
Я описываю вторую систему как «рассуждающую», а не как, скажем, рациональную, поскольку нет гарантии, что она будет рассуждать действительно рационально. Хотя эта система в принципе может быть достаточно умной, она часто принимает на веру не самые правильные рассуждения. В этом отношении кто-то может счесть, что рассуждающая система напоминает Верховный суд: его решения не всегда могут казаться здравыми, но намерения по крайней мере всегда благоразумные.
И наоборот, рефлексивная система вовсе не должна быть по определению иррациональной; просто она более недальновидна в сравнении с рассуждающей системой , но едва ли она вообще существовала бы, если бы была совершенно иррациональной. Большую часть времени она занимается тем, что ей удается хорошо, даже если (по определению) ее решения не являются результатом тщательного продумывания. Точно так же, хотя это может показаться соблазнительным, я должен предостеречь от отождествления рефлексивной системы с эмоциями. Несмотря на то что многие из них (страх, например), наверное, рефлексивны, такие эмоции, как злорадство — удовольствие от страданий соперника, — отнюдь нет. Вдобавок солидная часть рефлексивной системы едва ли имеет отношение к эмоциям; как мы инстинктивно удерживаем равновесие, споткнувшись на лестнице, так и наша рефлексивная система делает свое дело в нашем спасении, но она может справляться с этим и без участия эмоций. Рефлексивная система (на самом деле, вероятно, ряд систем) скорее связана не с чувствами, а с мгновенными суждениями, основанными на опыте, эмоциональном или каком-то ином.
Хотя рассуждающая система сложнее и она наиболее поздняя в эволюционном процессе, она никогда не обеспечивала должного контроля, поскольку основывает свои решения почти всегда на вторичной информации, привилегии недостаточно объективной атавистической системы . Мы можем сколько угодно рассуждать на эту тему, но, как говорят компьютерщики, «мусор на входе, мусор на выходе». Нет гарантии, что наследственная система обеспечит сбалансированный набор данных. Еще хуже то, что, когда мы напряжены, устали или расстроены, первое, что нам изменяет, — это наша рассуждающая система, оставляя нас на милость более несовершенной рефлексивной системы — как раз тогда, когда мы можем нуждаться в нашей рассуждающей системе больше всего.
Бессознательное влияние нашей атавистической системы так сильно, что, когда наш разум пытается взять под контроль ситуацию, усилия частенько оказываются напрасными. Например, в одном исследовании испытуемых поставили в жесткие условия и попросили быстро высказать свои суждения. Те, кому сказали (специально) подавлять сексистские мысли (предположительно продукт наследственной рефлексивной системы), на самом деле стали более подвержены им, чем контрольная группа. Еще страшнее то, что, поскольку эволюция поместила здравый смысл на вершину контекстуально зависимой памяти, она оставила нас с иллюзией объективности. Эволюция дала нам инструменты для рассуждений и размышлений, но не дала никаких гарантий, что мы сможем ими беспрепятственно воспользоваться. Мы чувствуем себя так, словно наши убеждения основаны на холодных, твердых фактах, но часто их незаметно для нас самих формирует наследственная система.
Неважно, что мы думаем об этом, мы склонны уделять больше внимания тому, что согласуется с нашими представлениями, чем тому, что идет вразрез с нашими представлениями. Психологи называют это «склонностью к подтверждению ». Когда мы придерживаемся какой-либо теории — большой или малой, мы склонны скорее замечать свидетельства, подтверждающие ее, чем данные, опровергающие ее.
Вспомним квазиастрологическое описание, с которого начиналась эта глава. Человек, который хочет верить в астрологию, может замечать в этом описании то, что кажется правдой («вы нуждаетесь в том, чтобы люди любили вас, восхищались вами»), и игнорировать обратное (возможно, со стороны вы не кажетесь таким уж дисциплинированным). Человек, который хочет верить в гороскопы, может один раз заметить совпадение и тысячу раз проигнорировать (или объяснить) туманные слова гороскопа, из которых ничего не следует. Это и есть склонность к подтверждению.
Возьмем, например, ранние эксперименты британского психолога Питера Уэйсона. Уэйсон представил испытуемым три разных числа (например, 2-4-6) и попросил их догадаться, какая закономерность стоит за их порядком. Испытуемых попросили создать новую последовательность, подтверждающую правило. В большинстве случаев испытуемый называл «4-6-8», ему говорили «да», он продолжал «8-10-12», ему снова говорили «да», из чего он мог заключить, что закономерность состоит в «последовательности из трех чисел, когда каждый раз добавляется два». Однако никто не рассматривал потенциально не подтверждающие данные. Например, правильна ли такая последовательность: 1-3-5? Или такая: 1-3-4? Мало кто задавался этим вопросом; в результате мало кто догадался, что на самом деле закономерность подразумевала просто «любую последовательность из трех возрастающих чисел». Обобщим сказанное: люди часто ищут случаи, подтверждающие их теорию, вместо того, чтобы попытаться выяснить, нет ли более подходящего альтернативного принципа.
В другом, более позднем и более жестком исследовании, двум группам показывали видеозапись ребенка, сдающего экзамен. Одну группу наблюдателей настроили на то, что это ребенок из привилегированной семьи, другую — что он из необеспеченной семьи. Те, кто считал ребенка благополучным, говорили, что он все делает хорошо и его успеваемость выше средней; другая группа предполагала, что его ответы ниже требуемого уровня.
Склонность к подтверждению может быть неизбежным следствием контекстуально обусловленной памяти. Поскольку мы извлекаем воспоминания не посредством систематического поиска релевантных данных (как это делает компьютер), а выбираем то, что подходит, мы не можем придумать ничего лучше, чем замечать то, что подтверждает наши изначальные представления. Вспомним судебный процесс над О. Дж. Симпсоном. Если бы вы были настроены заранее на то, что он виновен в убийстве, вам было бы легче найти свидетельства его вины (мотив, анализ ДНК, отсутствие других подозреваемых), а не доводы, подвергающие это сомнению (плохая работа полиции и компрометирующая его перчатка, которая не подошла).
Для того чтобы разобраться в чем-то как следует, надо оценить аргументы обеих сторон. Но, не приложив дополнительных усилий и не заставив себя сознательно рассмотреть альтернативы — а не то, что всплывает само по себе, — мы склонны скорее вспоминать свидетельства, которые согласуются с устраивающим нас предположением, чем с данными, которые идут вразрез с ними. И поскольку мы лучше всего помним информацию, соответствующую нашему мнению, от нее очень трудно абстрагироваться, даже когда она ошибочная.
То же самое, естественно, относится и ученым. Цель науки заключается в поиске взвешенного подхода к явлениям, но ученые — люди, и, как все люди, способны замечать то, что подтверждает их теории. Почитайте любые научные тексты, и вы увидите не только гениальность, но и такие идеи, которые при ретроспективном взгляде кажутся бредом, — плоская земля, алхимия и т. д. История не знает снисхождения к тем ученым, которые верили в подобные выдумки, но реалист способен признать, что при контекстуально зависимой памяти подобные глупости всегда возможны.
В 1913 году Элинор Портер написала одну из наиболее важных детских книг XX столетия «Полианна»: историю девочки, которая видела светлые стороны любой ситуации. Со временем имя Полианны стало использоваться в двух разных коннотациях. Его употребляют в положительном смысле для описания неизбывного оптимизма и в отрицательном — для характеристики оптимизма, граничащего с глупостью. Возможно, Полианна была вымышленным персонажем, но в каждом из нас есть немного от нее — склонность воспринимать мир позитивно, что может соответствовать действительности, а может и нет. Генералы и президенты ввязываются в войны, которые нельзя выиграть, ученые отстаивают свои любимые теории еще долго после того, как неопровержимые факты свидетельствуют против них.
Рассмотрим исследование, которое провела Зива Кунда. Группа испытуемых входит в лабораторию. Им предлагают участвовать в игровой викторине; но прежде, чем игра начинается, им дают возможность посмотреть на тех, кто будет играть либо с ними в команде (половина участников слышит это), либо в команде противника (это говорят второй половине). Для тех, кто не знает предмета, результаты подтасовываются; люди, за которыми наблюдают, играют прекрасно, отвечая на каждый вопрос правильно. Исследователи хотят знать, все ли испытуемые впечатлены игрой. Результат совершенно в духе Полианны : люди, которые предположительно будут играть в команде с хорошими игроками, впечатлены; классные ребята, думают они. Люди, которые ждут, что будут играть против них, настроены иначе; они относят удачные ответы скорее к удаче, чем к подготовленности игроков. Одни и те же данные и разная интерпретация: обе группы испытуемых наблюдают за чьей-то отличной игрой, но какие выводы они вынесут из своих наблюдений, зависит от роли, которую, как они ожидают, этот человек сыграет в их жизни.
В подобном исследовании группа студентов колледжа смотрела видео, где беседовали три человека; их попросили оценить, насколько симпатичны эти люди. При этом еще до просмотра видео испытуемым сказали, что с одним из этих людей (выбираемых наугад для каждого участника эксперимента) им предстоит встреча. Как и следовало ожидать, испытуемые давали наивысшие оценки тем людям, с которыми, как им сказали, им предстоит встретиться, — очередная иллюстрация того, как легко наши представления (в данном случае о привлекательности человека) могут меняться в зависимости от того, во что мы хотим верить. В любимом мною в детстве мюзикле Гарри Нильсона «The Point!» есть такие слова: «Ты видишь то, что хочешь видеть, и слышишь то, что хочешь слышать».
Наша склонность менее тщательно проверять то, во что мы желаем верить (то, в чем заинтересованы), в сравнении с тем, во что не хотим верить, называется склонностью к «мотивированным умозаключениям», это своего рода побочный продукт поиска подтверждений. Если склонность к подтверждению естественно вытекает из нашего стремления замечать данные, соответствующие нашим представлениям, то мотивированное умозаключение — это побочная тенденция, подразумевающая более тщательную проверку тех идей, которые нам не нравятся, по сравнению с теми, которые нас устраивают. Возьмите, например, исследование, в котором Кунда попросила испытуемых, половина из них были мужчины, половина — женщины, прочитать статью о вреде кофеина для женщин. В полном соответствии с идеей, что на наши представления — и умозаключения — влияют наши мотивы, женщины, которые пили много кофе, чаще были склонны сомневаться в этом выводе, чем женщины, которые пили кофе меньше. В то же время на мужчин, которые считали, что им ничего не грозит, подобный эффект не распространялся.
То же самое постоянно происходит и в реальном мире. На самом деле одна из первых научных иллюстраций мотивированных умозаключений была получена не в лабораторном эксперименте, а в полевом исследовании 1964 года, вскоре после того, как в печати появилось предупреждение главного врача Службы здравоохранения о связи курения с раком легких. Вывод о том, что курение вызывает рак легких, едва ли сегодня кому-то покажется новостью, но в те дни это была сенсация, широко обсуждаемая в прессе. Двое инициативных ученых взялись интервьюировать людей, спрашивая их, как они оценивают вывод главного врача. Как можно догадаться, курильщиков его отчет убедил меньше, чем некурящих. Курящие выступали с целым рядом контраргументов: «множество курильщиков живет долго» (что не совпадало с представленными статистическими данными); «многое в жизни случайно» (отвлекающий маневр), «курение лучше переедания или пьянства» (тоже не по делу); «лучше курить, чем нервничать» (утверждение, которое не поддерживают никакие данные).
Реальность такова, что мы просто не рождены для взвешенных суждений; даже студенты — выпускники элитных университетов подвержены такой слабости. В одном известном исследовании студентов Стэнфордского университета попросили оценить ряд исследований об эффективности высшей меры наказания. Некоторые студенты изначально были настроены в пользу смертной казни, а некоторые — против. Студенты охотно находили изъяны в исследованиях, где ставились под сомнения их убеждения, но легко пропускали серьезные недостатки в таких исследованиях, где делались выводы, с которыми они заведомо были согласны.
Соедините контаминацию представлений, склонность к подтверждению и мотивированные умозаключения, и вы получите биологический вид, готовый поверить во что угодно. На протяжении истории люди верили в то, что земля плоская (несмотря на свидетельства противоположного), в привидения, в ведьм, в астрологию, в благотворность самоистязания и кровопускания. По большей части эти верования благополучно ушли в прошлое, но некоторые люди по-прежнему тратят кровно заработанные деньги на эзотерическое чтиво и спиритические сеансы, и даже я сам частенько замираю при виде черной кошки. Или возьмем пример из политики: через полтора года после вторжения в Ирак в 2003 году, 58% людей, голосовавших за Джорджа Буша, все еще верили, что в Ираке есть оружие массового уничтожения, несмотря на свидетельства обратного.
И потом, как сообщалось, сам президент Джордж Буш заявлял, что имел личный и прямой контакт с Всевышним. И если судить по тому, что он был избран, это пошло ему на пользу; согласно обзору 2007 года исследовательского центра Пью 63% американцев не хотят голосовать за кандидата, который не верит в Бога.
Таким критикам, как Сэм Харрис (автор книги «Конец веры»), такое положение дел кажется абсурдным:
Чтобы увидеть, насколько наша культура... пропитана иррациональностью... просто везде замените слово «Бог» именем вашего любимого олимпийского бога. Представьте, как президент Буш изъясняется на Национальном молитвенном завтраке: «За всем в жизни и в истории стоят служение и цель, обусловленные справедливостью и Зевсом». Представьте в его речи перед конгрессом (20 сентября 2001 года) такое предложение: «Свобода и страх, правосудие и жестокость всегда находились в состоянии войны, и мы знаем, что Аполлон не занимает нейтральное положение между ними».
Религия пользуется особым влиянием отчасти потому, что люди хотят, чтобы это было правдой; среди всего прочего религия дает им чувство, что мир справедлив и тяжкий труд вознаграждается. Такая вера обеспечивает чувство цели и принадлежности как на уровне личности, так и в космическом масштабе; нет сомнения, что желание верить дает и способность верить. Но все это не объясняет, почему люди склонны к вере, несмотря на явное отсутствие прямых доказательств6. Поэтому мы должны обратиться к факту, что эволюция оставила нам способность дурачить самих себя и верить в то, во что мы хотим верить. (Если мы молимся и случается что-то хорошее, мы замечаем это; если же ничего не происходит, мы не замечаем несовпадения.) Без мотивированных умозаключений и склонности к подтверждению мир был бы другим.
Как можно видеть в опросе курильщиков, пристрастные суждения имеют как минимум одно преимущество. Они помогают нам защищать свою самооценку. (Конечно, речь идет не только о курильщиках; я видел ученых, которые во многом вели себя похоже, отчаянно цепляясь за исследования, ставившие под сомнение то, во что они верили.)
Беда тут в том, что самообман часто ведет нас в ложном направлении. Когда мы дурачим себя посредством мотивированных умозаключений, мы можем придерживаться ложных, а то и бредовых убеждений. Они способны вести к социальным конфликтам (когда мы решительно пренебрегаем взглядами других людей), к саморазрушению (когда курильщики пренебрегают рисками из-за своей привычки) и к научной слепоте (когда ученые отказываются признавать данные, идущие вразрез с их теориями).
Когда люди во власти предаются мотивированным суждениям, пренебрегая важными свидетельствами их собственных ошибок, результаты могут быть катастрофическими. Так, вероятно, произошла одна из самых грандиозных ошибок современной военной истории весной 1944 года, когда Гитлер по совету своего ведущего фельдмаршала Герда фон Рундштедта решил защищать Кале, а не Нормандию, несмотря на лоббирование генерала менее высокого ранга Эрвина Роммеля. Плохой совет фон Рундштедта, порожденный стремлением не отступать от собственных планов, стоил Гитлеру Франции, а возможно, и всего Западного фронта7.
Почему существуют мотивированные суждения? Здесь дело не в эволюционной инерции, а просто в отсутствии предвидения. В то время как эволюция наградила нас способностью мыслить, она не удосужилась обеспечить нас мудростью: ничто не заставляет нас быть беспристрастными, поскольку никто не предвидел опасности в соединении мощных инструментов мышления с опасным искушением самообмана. В результате, предоставив нам самим решать, насколько использовать наш механизм сознательных умозаключений, эволюция дала нам свободу — к лучшему или к худшему — быть настолько субъективными, насколько нам захочется.
Даже если нам нечего особенно терять, то, что мы уже знаем — или думаем, что знаем,— часто еще больше затуманивает нашу способность мыслить и формировать новые представления. Возьмем, например, такую классическую форму логического умозаключения, как силлогизм: дедуктивное умозаключение, состоящее из большей посылки, меньшей посылки и вывода, как это выражено в строках:
- Все люди смертны.
- Сократ человек.
- Следовательно, Сократ смертен.
Такая логика ни у кого не вызывает вопросов; мы понимаем абстрактность формы и понимаем, что это легко обобщить:
- Все глорки — фрумы.
- Скизер — глорк.
- Значит, Скизер — фрум.
И сразу же новый способ формирования представлений: возьмите то, что вы знаете (меньшая и большая посылки), вставьте в дедуктивную схему (все X — это Y, Q — это X, следовательно, Q — Y) и выведите новое представление. Красота этой схемы состоит в том, что правильные посылки посредством правил логики гарантированно ведут к правильным выводам.
Хорошо то, что люди так или иначе способны делать подобное, но плохо, что без достаточной подготовки мы не умеем делать это хорошо. Если способность рассуждать логически — это продукт естественного отбора, это также и очень недавняя адаптация к некоторым серьезным дефектам, которые тем не менее нужно исправлять.
Рассмотрим, например, силлогизм, который чуть-чуть, но принципиально отличается от предыдущего:
- Все живое нуждается в воде.
- Розы нуждаются в воде.
- Следовательно, розы живые.
Справедливо ли данное утверждение? Фокус тут в логике, а не в выводе как таковом; мы и так знаем, что розы живые. Вопрос в том, убедительна ли логика, следует ли вывод за предпосылкой, как ночь следует за днем. Большинство считают это утверждение убедительным. Но посмотрите внимательно: посылка, что все живое нуждается в воде, не исключает того, что некоторые неживые объекты тоже нуждаются в воде. Мой автомобильный аккумулятор, например.
Уязвимость этого рассуждения становится очевидной, если я просто изменю слова:
- Посылка 1: Все насекомые нуждаются в кислороде.
- Посылка 2: Мыши нуждаются в кислороде.
- Вывод: Следовательно, мыши — насекомые.
По-настоящему здравомыслящий человек сразу заметит, что рассуждения с розой и мышью следуют одной и той же схеме (все X нуждаются в Y, Z нуждаются в Y, следовательно, все Z — это X), и отклонит подобное умозаключение как нелогичное. Но большинство из нас должны увидеть два неологизма рядом, чтобы понять это. Слишком часто мы пренебрегаем тщательным анализом того, что логично, в угоду нашим сложившимся представлениям.
Что же здесь происходит? В системе, которая тщательно сконструирована, убеждения и процесс логических умозаключений (которые вскоре превращаются в новые представления) предположительно разделены нерушимой стеной; мы вроде бы способны отличать то, чему есть прямые свидетельства, от того, к чему просто пришли логически. Вместо этого в развитии человеческого сознания эволюция пошла другим путем. Задолго до того, как люди начали оперировать категориями формальной логики (такими, как силлогизмы), другие создания — от рыб до жирафов, — вероятно, делали неформальные умозаключения автоматически без особой рефлексии; если яблоки хороши для еды, то груши, вероятно, тоже. Шимпанзе или горилла может прийти к такому предположению, даже не догадываясь, что существует понятие умозаключения. Возможно, одна из причин, почему люди так склонны путать то, что они знают, с тем, что они думают, состоит в том, что для наших предков эти два понятия были едва различимы и многие выводы делались автоматически, будучи частью представлений, а не самостоятельной рефлексивной системой.
Способность кодифицировать законы логики предположительно возникла лишь недавно, возможно, после появления гомо сапиенс. И к этому времени представления и умозаключения были слишком переплетены, чтобы допустить их полную отдельность в ежедневном процессе мышления. Результат — это во многом клудж: убедительная система сознательных суждений слишком часто затуманивается предрассудками или сложившимися представлениями.
Исследования мозга подтверждают это: люди оценивают силлогизмы, используя два разных участка мозга: один — более тесно связанный с логикой и пространственной ориентацией (двусторонний теменной), а другой — более связанный с предшествующими представлениями (фронтальный височный). Первый (логический и пространственный) требует усилий, последний запускается автоматически; получить право на логику непросто.
На самом деле истинная ясность суждений посредством логики, вероятно, вообще не была результатом эволюции. Если людям удается быть рациональными с точки зрения формальной логики, то это не потому, что мы устроены таким образом, а потому, что мы умны достаточно, чтобы усвоить правила логики (и признать их обоснованность, если их объяснили). В то время как все нормальные люди овладевают языком, способность использовать формальную логику для того, чтобы иметь и обдумывать свои представления, вероятно, обязана скорее культуре, чем эволюции, т. е. становится возможной благодаря эволюции, но не гарантируется ею. Формальные умозаключения, если считать, что они существуют, похоже, представлены преимущественно в культурах с развитой письменностью, их трудно обнаружить в культурах, где таковой нет. Русский психолог Александр Луриа, например, в конце 1930-х годов отправился в горы Центральной Азии, где предлагал местным жителям такой силлогизм: «В одном сибирском городе все медведи белые. Ваш сосед поехал в тот город и увидел медведя. Какого цвета был медведь, которого он увидел?» Его респонденты никак не могли понять это, их типичный ответ был: «Откуда я знаю? Почему профессор не спросит соседа сам?» Дальнейшие исследования в более поздние годы подтвердили этот пример; представители народностей, не знающих письменности, обычно на подобных опросах отвечают, опираясь на факты, которые им известны, и явно не способны увидеть абстрактные логические отношения, интересующие экспериментатора.
Это не означает, что представители таких общностей не способны освоить формальную логику — по крайней мере дети обычно могут, — но это показывает, что овладение абстрактной логикой не происходит само собой, как овладение языком. В свою очередь это означает, что формальные инструменты рассуждений относительно представлений осваиваются в той мере, в какой они эволюционируют, а не входят в стандартное оборудование (как полагают защитники идеи, что человечество изначально рационально).
Если мы считаем что-то верным (по той или иной причине), мы часто придумываем новые доводы, чтобы верить в это. Возьмем, например, исследование, которое я проводил несколько лет назад. Половина испытуемых читала материалы исследования, показывающего, что успешная борьба с пожаром соотносится с высоким показателем способности идти на риск. Другая половина испытуемых читала противоположное: в исследовании утверждалось, что успехи в тушении пожаров демонстрируют люди с негативной корреляцией по показателю способности идти на риск, то есть рискованные люди хуже боролись с огнем. После этого каждую группу делили еще раз. Часть подгруппы просили изложить в письменной форме причины, по которым в прочитанном ими исследовании получились такие результаты; других просто занимали рядом сложных геометрических головоломок наподобие тех, какие бывают в тестах на умственное развитие.
Потом, как это часто практикуют социальные психологи, я перевернул все с головы на ноги: «Исследование, которое вы читали в первой части эксперимента, было фальшивкой. Исследователи, якобы изучавшие тушение пожаров, на самом деле переиначили данные! Я хочу знать одно: что вы думаете на самом деле — действительно ли тушение пожаров связано со склонностью к риску?»
Даже после того, как я сказал людям, что первоначальное исследование было полной ерундой, люди из тех подгрупп, где была возможность порассуждать (и дать свои объяснения), продолжали верить в то, что прочли раньше. Короче говоря, если вы дадите кому-то некоторый шанс описать причины верить во что-то, они примут на веру то, что вы им предложите, даже если их первоначальные свидетельства будут полностью опровергнуты. Рациональный человек, если он существует, будет верить в правду, неизменно двигаясь от правильной посылки к правильному выводу. Иррациональный человек, кустарный продукт эволюции, каковым он и является, обычно двигается в противоположном направлении, начиная с вывода, а затем уже выискивая причины верить в него.
С моей точки зрения, убеждения складываются из трех фундаментальных компонентов: способности запоминать (представления бесполезны, если они приходят и уходят, не задерживаясь в голове), способности делать умозаключения (выводить новые факты из старых, как это только что было показано) и способности — как это ни странно — воспринимать.
Внешне восприятие и убеждения могут казаться не связанными друг с другом. Восприятие касается того, что мы видим, слышим, ощущаем на вкус, обоняем, чувствуем, тогда как убеждения — это то, о чем мы знаем — или полагаем, что знаем. Но с точки зрения эволюционной истории эти два понятия не такие разные, как это может показаться. Самый очевидный путь к убеждениям — это видеть что-то. Когда Ари, золотистый ретривер моей жены, машет хвостом, я верю, что он счастлив. Почта отправляется в щель почтового ящика, и я верю, что корреспонденция будет доставлена. Или как это сформулировал Чико Маркс : «Кому вы поверите, мне или собственным глазам?»
Беда, когда мы начинаем верить в то, чего не можем увидеть. И в современном мире очень многое, во что мы верим, нельзя просто увидеть. Наши возможности получать новые представления опосредованно — от друзей, учителей, из средств массовой информации, а не из личного опыта — позволяют людям создавать культуру и технологии невероятной сложности. Мой клыкастый друг Ари познает то, что он познает, преимущественно методом проб и ошибок. Я узнаю то, что узнаю, преимущественно из книг, журналов и Интернета. Я могу выразить некоторый скептицизм по поводу того, что читаю. (Правда ли, что журналист Сеймур Херш располагает серьезными анонимными источниками? Действительно ли кинообозреватель Энтони Лэйн видел фильм «Клерки II»?) Но обычно, к добру или не к добру, я склонен верить в то, что читаю, и узнаю многое именно из СМИ. Ари (тоже к добру или не к добру) знает только то, что видит, слышит, чувствует, пробует на вкус, нюхает.
В начале 1990-х психолог Даниэль Гилберт, теперь уже хорошо известный своими работами о счастье, проверял теорию, которая восходит к философу XVII века Баруху де Спинозе. Идея Спинозы состояла в том, что «вся информация [изначально] принимается в процессе ее осмысления и... ложная информация... отвергается [только позже]». В качестве проверки гипотезы Спинозы Гилберт представил испытуемым правдивые и ложные высказывания — временами прерывая и отвлекая их (для того, чтобы нажать кнопку). Как и предвидел Спиноза, перерывы повышали шанс, что испытуемые поверят в ложное утверждение8; другие исследования показали, что люди с большей вероятностью принимают ложь, если их отвлекают или дают им меньше времени. При прочих равных условиях мы автоматически верим в идеи, с которыми сталкиваемся.
Эта разница в порядке (между тем, что мы слышим, принимаем и оцениваем, в сравнении с тем, что мы слышим, оцениваем и принимаем) поначалу может показаться тривиальной, но из нее вытекают серьезные последствия. Возьмем, например, недавно обсуждавшийся на еженедельной радиопередаче Иры Гласс сериал «Эта американская жизнь». Профессиональный политик, ведущий кандидат в лидеры демократической партии штата Нью-Хэмпшир, обвинен в хранении большого количества детской порнографии. Несмотря на то что обвиняющий его представитель штата от республиканской партии не предлагает доказательств, опороченный кандидат вынужден отступиться, естественно, его политическая картина разрушена. Двухмесячное расследование в итоге не приводит к появлению доказательств. Но ущерб нанесен — хотя наше законодательство строится на презумпции невиновности, наше сознание — нет.
На самом деле, как каждый юрист знает интуитивно, один лишь вопрос о какой-то возможности может увеличить шанс, что кто-то поверит в это. («Правда ли то, что вы читали порнографические журналы в возрасте двенадцати лет?» — «Вопрос отклоняется, как не имеющий отношения к делу».) Как показали эксперименты, простого выслушивания чего-то в форме вопроса — а не утверждения — часто уже достаточно для того, чтобы повлиять на представления.
Почему люди так часто некритично воспринимают то, что они слышат? Дело в характере эволюции представлений: из механизма, который сначала обслуживал восприятие. А в восприятии высокий процент того, что мы видим, — правда (по крайней мере так было до эры телевидения и фотошопа). Когда мы видим что-то, обычно вполне можно верить этому. Цикл формирования представлений работает подобным образом — мы собираем элементы информации прямо, посредством наших чувств, или (возможно, чаще) косвенно, через язык и коммуникации. В любом случае мы склонны сразу же поверить в это и только потом задумываемся, достоверно ли это, если это вообще происходит.
Проблема распространения подхода «сначала стреляй, вопросы — потом» на наши представления состоит в том, что мир лингвистический внушает куда меньше доверия, чем мир визуальный. Если нечто выглядит, как утка, и крякает, как утка, мы имеем право считать, что это утка. Но если какой-то парень в плаще скажет нам, что хочет продать нам утку, это уже другая история. Особенно в наше время блогов, фокус-групп и черного пиара язык не всегда является надежным источником правды. В идеальном мире основная логика восприятия (собрать информацию, предположительно правдивую, а затем оценить ее, если есть время) должна быть заменена ясными представлениями в словесной форме. Но вместо этого, как обычно бывает, эволюция избрала ленивый выход, надстроив новые технологии поверх убеждений, с непредсказуемыми последствиями. Наша склонность принимать на веру то, что мы слышим и читаем, без нужной доли скептицизма, всего лишь одно из последствий.
Йоги Берра однажды пошутил, что бейсбол на 90% — игра наполовину умственная; я говорю, что 90% наших убеждений наполовину сырые. Наши представления засоряются капризами памяти, эмоциями, причудами системы восприятия, что должно быть полностью исключено. Я не говорю уже о системе логических умозаключений, которая в начале XXI века пока еще даже не вылупилась из яйца.
Словарь определяет акт веры и как «восприятие чего-то как правды», и как «представление о существовании чего-то, особенно когда нет абсолютных доказательств». Так что же подразумевают вера, представления, убеждения — то, что мы знаем как правду, или то, что мы хотим считать правдой? Часто представителям нашего вида трудно признать, что эта разница — явное напоминание о нашем происхождении.
Эволюционировавшие из созданий, которые часто были вынуждены действовать, а не думать, гомо сапиенс так и не создали должной системы для отслеживания того, что мы знаем и как мы пришли к этому знанию, не зависящей от того, что мы просто хотели бы знать.
1 ⇑ Животные часто ведут себя часто так, словно у них тоже есть свои представления, но мнения ученых и философов по этому поводу не совпадают. Здесь я хочу сказать, что мы, люди, можем формулировать свои представления, например: «В дождливые дни неплохо иметь с собой зонт» или «Поспешишь — людей насмешишь». Такие общепринятые взгляды не обязательно верны (если вы принимаете тезис «Разлука усиливает любовь», то как насчет «С глаз долой, из сердца вон»?), но они отличаются от имплицитных «представлений» нашей сенсорно-двигательной системы, которые мы не можем сформулировать.
Например, наша сенсомоторная система ведет себя так, словно считает, что такое-то усилие достаточно приложить для того, чтобы поднять ногу на высоту бордюрного камня, но нефизикам было бы сложно рассчитать требуемое количество силы. Я подозреваю, что многие животные имеют свои имплицитные представления, но исхожу из того, что представления, которые мы можем формулировать, оценивать и осмысливать, свойственны лишь людям и в лучшем случае очень немногим другим видам.
2 ⇑ Благодаря эффекту прайминга большинство людей отвечают "авантюрный".
3 ⇑ Когда Аттила был разгромлен на самом деле? В 451 г. н. э.
4 ⇑ Если вы осведомлены об эффекте якоря и корректировки, вы можете объяснить, почему во время финансовых переговоров лучше иметь исходное предложение цены, чем реагировать на него. Этот феномен объясняет также (как показывает одно недавнее исследование), почему супермаркеты могут успешнее распродать консервированный суп с пометкой «не больше 12 банок на каждого покупателя», чем «не больше четырех на каждого покупателя».
5 ⇑ В марте 2006 г. в Сьерра-Виста, Аризона, девять дней почивший в бозе Боб Касун выиграл с преимуществом порядка три к одному.
6 ⇑ Некоторые (к счастью, не все), кто верит в креационизм, а не в эволюцию, похоже, стремятся использовать любое свидетельство для подтверждения своих взглядов. Один сайт религиозных новостей, например, рассматривает недавнее открытие, что человеческая ДНК более вариабельна, чем было принято думать, дабы «развенчать эволюцию». Аргумент не выдерживает критики (и я привожу его дословно):
«Учитывая, что люди отличаются друг от друга в десять раз [больше, чем предполагалось], похоже, что разница между геномом шимпанзе и геномом человека на 4% может означать стократную разницу между разными людьми и разными шимпанзе. И эта разница сводит на нет всякое разумное обоснование эволюции... чем больше ученые узнают, тем больше подтверждается Библия».
Если бы было меньше генетических вариаций, этот аргумент прошел бы: «Все мы сделаны по образу и подобию Божию; следовательно, нет ничего удивительного в том, что наша ДНК одинаковая», но в приведенном отрывке нет никакой логики между исходной предпосылкой (генетических вариаций человека оказалось неожиданно много) и достаточно ненаучным выводом.
7 ⇑ Почему Рундштедт не прислушался к Роммелю? Он зациклился на собственной стратегии, на тщательно разработанном, но совершенно бессмысленном плане защиты Кале. Гитлер, в свою очередь, доверял Рундштедту настолько, что проспал утро высадки англо-американских войск в Нормандии, явно не разделяя беспокойства Роммеля, что Нормандия может быть захвачена.
8 ⇑ Обратное не было справедливо; прерывание людей в момент рассмотрения верного утверждения не увеличивало неверия, в частности, потому, что люди изначально считают то, что они слышат, правдой, независимо от того, возникает ли в конечном итоге возможность тщательно оценить это.